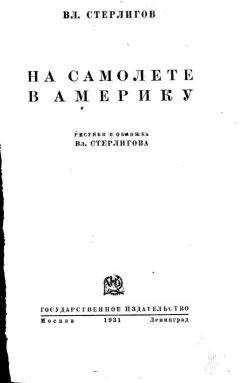Александр Сокуров - В центре океана [Авторский сборник]
…Но это небо я запомню и узнаю его, если где увижу…
10.
87
…Это для Томаса Манна — спросите его.
Он любит такие вопросы…
11.
85
…
12.
270
…Все же осень лучше чувствуется русскими… Осень неэстетична, осень пронзительна, неописуема в своей грусти, элегичности. Осенью не пьют мягкие, комфортные вина — а если пьют, значит, ничего в осени не понимают. Осень трагична по сути своей, осень можно и не пережить, потому как осень длится долго, да и зима тянется-тянется, а ведь и весна бывает не такой уж и радужной… Осень как сумерки жизни, осень — концентрация мужества. Осень — печаль в любой конфессии…
Осень вертикальна по сути своей. Осень готовит всех и вся к смирению, уговаривает всех затаиться… Самое близкое к душе человека время года. Правда, человек не всегда понимает это…
…Наверное, это брошенный дом; дом без человека — это небо без птицы.
Опять — кинематограф… Через секунду вплывет в кадр старенькая лодка со стариком, прислонится к старой стене, старик войдет в дом, долго будет искать в нем что-то; не найдя, совсем несчастный вернется в лодку и тихо положит весла на воду… А вот его уже и нет… Антониони по-русски…
13.
415
…Иллюстрация к типичному человеческому представлению о жизни человека, о его пути… Мы заблуждаемся, полагая, что если вокруг себя человек ничего не видит, так же как и перед собой, — значит, это как-то особенно напряженно и окрашено таинственной интонацией, ожиданием опасности… Природа никогда ничего не делает для нас, никаких особых знаков нам не подает — хотя бы потому, что она о нас ничего не знает, не видит нас и не отличает нас от прочего материального мира… Наша духовность на ее фоне — это маленькие-маленькие наши радости на фоне нашего знания нашей смертности…
…Очень красиво, просто глаз не оторвать.
14.
248
…Это называется «калиф на час»…
Все белое здесь совершенно чужое. Подозреваю, что белое не идет Италии, не к лицу… Еще рано, это впереди. Но если представить, что Природа, любя Италию, преподносит такие «подарки» очищения белым…
Интересно, что под белым в итальянском пейзаже все начинает выглядеть искусственным, как будто не проходит проверку на белое…
Странно, но вполне естественно. Наличие силы белого в искусстве или в жизни обусловливается необходимостью или допустимостью замирания, микропаузы, момента сна… Но это совсем не подходит для южной жизни, творчества или искусства под теплым небом… На юге в искусстве нет сна, нет забвения, нет купюр, нет хитрости выживания…
Белое в искусстве — неизученное пространство мысли.
15.
272
…Вид из окна поезда… Человек сидит в теплом вагоне, мимо проплывает отдаленная, с отдаленными тяготами жизнь… Ставни закрыты. Нет никого.
Да и не надо.
Дождемся тепла.
А вообще это картина того, как человек может жить… может жить совершенно один и ни в ком не нуждаться, были бы провода с электричеством, и пошел весь этот мир к чертовой бабушке…
Интересна мера светлого, великолепная неуловимость цветового предпочтения… Мастер, мастер, мастер!!!
16.
271
…Где-то я это видел… где-то я это видел…
Вспомнил — да у Феллини я это видел… Это мне мешает… Практика кинематографа мне мешает, влияние торопливых европейских кинооператоров мне мешает…
А может, я неправ…
17.
264
…фотография.
18.
Автострада…
Ну да — автострада… Небо такое не забыть…
19.
Болония…
Ночной пейзаж… Управляемый мир. Чертеж.
Балансы технологий.
Мне не хочется смотреть на этот пейзаж.
В нем опять нет человека.
Конечно, я понимаю, что это фото создано мастером, но такое произведение мог создать и немец, и голландец, англичанин, эстонец… кто угодно, но не итальянец…
Может, я опять ошибаюсь?
РУКИ
Размышления о профессиональном развитии
Который уже раз перелистываю его рисунки — через жесткую геометрию линий и отношений персонажей на бумаге проявляется очевидная уникальность автора, его надстояние, возвышение над ремеслом.
Задача, которая стоит передо мною, представляет для меня внутреннюю сложность: я позволяю себе говорить о выдающемся человеке, которого я никогда не видел, к руке которого никогда не прикасался…
Многие факты его биографии мне неизвестны, я никогда не занимался специально изучением его творчества, более того, для меня всегда существовала дистанция по отношению к его личности и его работам. Кроме того, масштаб этой личности во многом делает сегодня все оценочные рассуждения неуместными и бессмысленными.
…Когда я в первый раз увидел его фильм «Броненосец „Потемкин“»… Я очень хорошо помню свое впечатление. Почему-то даже тогда для меня, воспитанного в советском духе, это было слишком пафосно.
И слишком жестоко.
При этом интерес к жизни Эйзенштейна у меня был: на вступительных экзаменах во ВГИКе я читал детские стихи Агнии Барто, а вместо прозы — фрагмент режиссерского сценария Эйзенштейна «Александр Невский».
Но и стремление сохранить дистанцию, не углубляться, не приближаться к нему вплотную у меня тоже было уже тогда.
Учась во ВГИКе, я на учебной сцене ставил реконструкцию эйзенштейновского спектакля «Мудрец» и познакомился с Наумом Клейманом, который с большим участием отнесся к моей работе. Но я не могу сказать, что мир Эйзенштейна меня привлекал. Напротив, впервые представление о силе и опасности инструмента, каким пользуется кинематограф, я получил, разглядывая фильмы Эйзенштейна. Я по сей день не могу отделаться от мысли, что кинематограф держит в руках острый предмет, наносящий незаживающие раны.
Представьте себе, вы идете в толпе людей, и вдруг какой-то романтик-сумасшедший вынимает бритву и начинает ею размахивать и наносить ужасные раны окружающим, многие погибают, а у тех, кого ранили, шрамы на лице на всю жизнь. Всех этих ран я не могу простить кинематографу.
Провокация жестокости в показе реального действия для меня всегда граничила с моральным преступлением. Всегда думаю: ведь среди людей, которые смотрят это, могут быть люди слабые.
Для меня в искусстве неприемлема эта провокация жестокосердия и эстетическая его канонизация. Говорят: какой образ, какая трагедия за этим угадывается!
Но одно дело прочесть об этом в пьесе Шекспира, а другое дело показать в кино.
Дистанция между написанным и показанным, между моральным переживанием слова и психофизическим восприятием изображения — огромная. То, что спровоцировал мировой кинематограф много десятилетий назад, сегодня выросло в масштабы повсеместной привычки к любым формам жестокости на экране. Здесь для меня всегда был рубеж отталкивания.
Мастерство не должно поддерживать зла.
Визуальное воспроизведение картин жестокости в моем представлении — это всегда умножение зла. Когда я смотрю «Заводной апельсин» Кубрика, то, понимая все мастерство этого человека, также представляю, какое количество психологических травм могло быть спровоцировано его фильмами.
Такие же опасения у меня возникли при первых просмотрах «Броненосца „Потемкина“» и «Стачки», о чем я никому тогда не говорил. Я понимал, что это мое восприятие могло лишь вызвать чью-то иронию. Однако ощущение, которое меня охватило в школьные годы, осталось и сейчас.
Я вижу в исторической перспективе от истоков до наших дней, как кинематограф по ступеням нисходит к рассудочному, системному жестокосердию. Кинематографисты приложили руку к вполне определенной материализовывающейся сегодня мрачной картине мира.
Как Наполеон, угробив сотни тысяч людей, почему-то стал великим человеком в памяти французов-потомков, как Ленин, подписавший приказы о публичном умерщвлении тысяч священников в христианской стране, провозглашен был «самым человечным человеком», так и деятели кино, приучая зрителя к картинам насилия, получают статус художников.
Мне ближе те из открывателей «нового искусства», которые с большой осторожностью использовали новые возможности своего ремесла, начинали не с нуля и не были примитивно-амбициозными. Потому что воображать себя первым камнем в основе любого созидательного процесса не только самонадеянно, но и варварски наивно. Если бы деятельность многих кинематографистов не была так амбициозна и аморальна, то мир во многом мог бы быть другим.
В первую очередь таинство смерти кинематограф сделал визуальным товаром, а позже подбросил его на откуп своему ближайшему родственнику — телевидению.